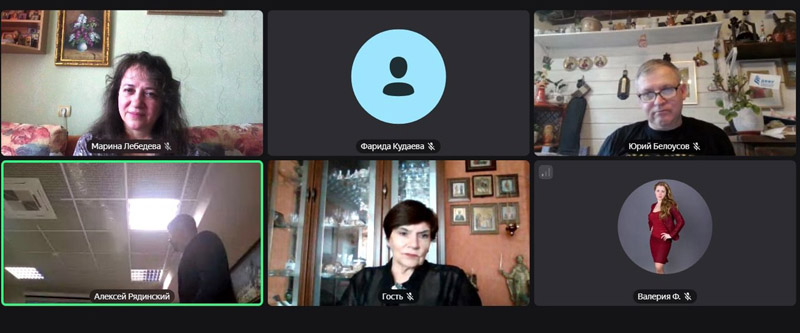Новости Православного мира Блог
-
Ведущий специалист Духовно-просветительского центра Марина Владимировна Муравьева выступила на XVII городской историко-краеведческой конференции «Защитник Отечества». XVII городская историко-краеведческая конференция «Защитник Отечества», посвящённая 80-летию Победы и Году защитника Отечества в РФ состоялась 24 апреля в...
-
14 апреля в филиале Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове для студентов второго курса прошла конференция «Священный дар жизни». С вступительным словом выступила Е.Н.Тикунова- ответственный секретарь Комитета по защите семьи, материнства и детства при...
-
5 апреля прошла викторина, посвященная Дню православной книги, организованная Духовно-просветительским центром В Центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина на викторину были приглашены команды 5-6 классов. Тема викторины – «Евангельские притчи». Руководитель Духовно-просветительского центра иерей Николай...
-
5 апреля в преддверии Дня беременных в туристско- информационном центре г. Касимова состоялось информационно- досуговое мероприятие. С приветственным словом к участникам встречи выступила заместитель главы администрации Касимовского округа Татьяна Константиновна Седова. Руководитель миссионерского отдела...
-
30 марта 2025 года в Москве общественным движением «Русская Мечта» был организован круглый стол «Легенды и сказы — духовные скрепы России». В нем приняли участие эксперты из Москвы, Касимова, Тамбова, Нальчика и Тулы, посвятившие...
Вчера, 25 марта, гостем городского методического объединения учителей ИЗО в рамках празднования Дня православной книги стала ведущий специалист Духовно-просветительского центра, член Союза писателей России Марина Владимировна Муравьева (Лебедева). Она подарила свои новые книги «Предания...
21 марта в Центре культурного развития прошел традиционный поэтический праздник «Нам завещали мир», посвященный Всемирному дню поэзии, организованный Духовно-просветительским центром. Прозвучали стихи о специальной военной операции, Великой Отечественной войне в исполнении победителей конкурса и...
19 марта сотрудники Духовно-просветительского центра приняли участие в работе жюри при подведении итогов заочного музыкально-поэтического конкурса, посвященного «Защитнику Отечества», организованного Центром культурного развития. Выбирались лучшие в пяти возрастных категориях и трех номинациях. Из числа...
Настоятель Покровского храма п. Сынтул иерей Симеон Правдолюбов рассказал подросткам о духовно-нравственных основах брака, верности, чистоте, целомудрии. Объяснил понятие греха , о духовных изменениях внутри человека. Священник уделил большое внимание зарождению и внутриутробному развитию...
Со вступительным словом о ценности человеческой жизни выступила ответственный секретарь Комитета по защите семьи, материнства и детства при Духовно-просветительском центре имени священномученика Матфия Касимовского Е.Н.Тикунова. Старшеклассники посмотрели фрагмент документального фильма «Чудо жизни» о внутриутробном...
14 марта в Центральной библиотеке имени Л.А. Малюгина Духовно-просветительским центром был организован круглый стол для сотрудников библиотек и учителей Касимовского муниципального округа. В ходе круглого стола директор Рязанской епархиальной библиотеки Моисеева Наталья Леонидовна затронула...
14 марта в Центральной библиотеке имени Л.А. Малюгина прошел тематический вечер «Православная книга – путь к добру и миру», посвящённый Дню православной книги и организованный в рамках Года защитника Отечества. На мероприятии для старшеклассников...
Иерей Николай Пронин — руководитель молодёжного отдела Касимовской епархии, председатель Духовно просветительского центра имени священномученика Матфия Касимовского говорил о духовно-нравственных основах создания семьи, о семейных ценностях в свете христианской культуры. Он объяснил понятие греха,...
1 марта 2025 года в Москве состоялся VIII Гиппократовский медицинский форум «БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ: УГРОЗЫ, ВЫЗОВЫ, ЗАЩИТА». Основной целью проведения форума является содействие реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», а также...
Она была посвящена защите человеческой жизни во внутриутробный период развития. Перед молодежью выступали: иерей Николай Пронин — руководитель молодежного отдела Касимовской епархии, председатель Духовно-просветительского центра имени священномученика Матфия Касимовского, Вера Владимировна Тарасова — врач...